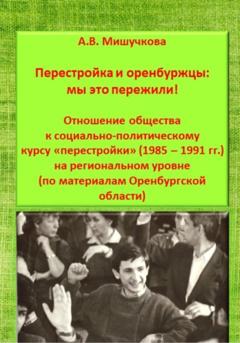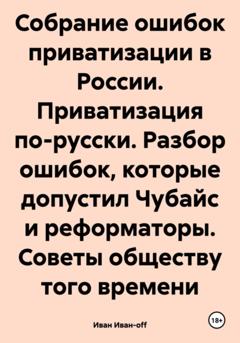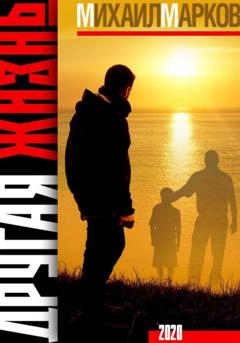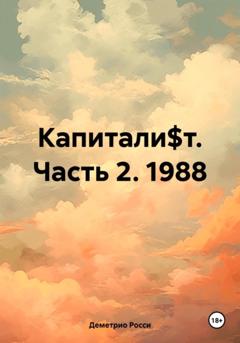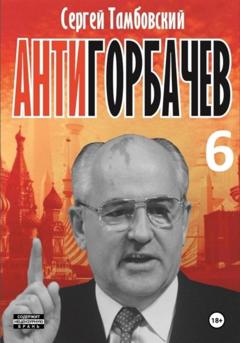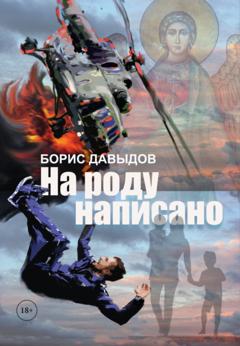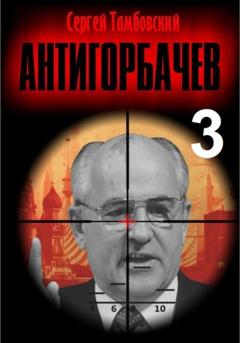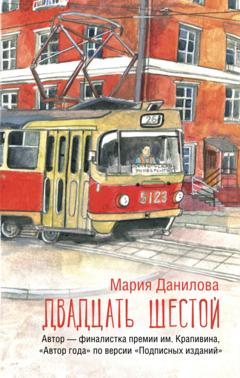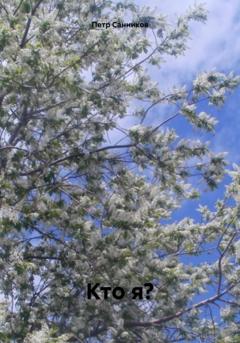Источник: На новые рубежи. 8 апр. 1989. №43. Проценты подсчитаны нами.
На III Пленуме Оренбургского обкома КПСС от 27 апреля 1989 г. второй секретарь А. Ф. Колиниченко отметил, что «выборы стали ещё одним ярким подтверждением решительной поддержки курса партии на обновление советского общества».[213 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 158. Д. 654. Л. 4.] По информации Центра изучения общественного мнения (далее – ЦИОМ) при обкоме КПСС итоги выборов показали, насколько важно изучать и формировать общественное мнение, своевременно выявлять вопросы, беспокоящие людей, оперативно принимать меры по жалобам и заявлениям граждан, ведь 90% вопросов являлись «больными», социально-бытовыми. Для этих целей, в том числе при облсовпрофе, был организован «Пресс-центр для сбора от населения замечаний по вопросам работы предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг и осуществления тесного взаимодействия со СМИ в обеспечении гласности проводимой работы».[214 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 556. Л. 2.] По заявлениям представителей обкома, выборы подтвердили и «необходимость решительного противодействия экстремистски настроенным элементам, демагогам, социально незрелым людям, стремящимся использовать процедуру демократизации и гласности в своих «далеко не бескорыстных целях». «Они подогревают страсти недовольных, разжигают неприязнь к партийным и советским органам, подстрекают коллективы к забастовкам и другим несанкционированным формам протеста», – было отмечено аналитиками обкома КПСС.[215 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 631. Л. 44 – 45.] Такие случаи имели место в областном центре, Орске, Новотроицке, Медногорске, Бугуруслане[216 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 158. Д. 654. Л. 5,57.] и некоторых рабочих посёлках и были закономерными в рамках ситуации демократизации.
Отчётливо начинает проявляться диссонанс в отношении граждан к реформаторскому курсу: при наличии активности в выборах, поступало много нареканий на отсутствие или нехватку товаров, плохое содержание жилого фонда и дорог, что и было признанно на пленуме обкома: «Людей унижают очереди, бытовая неустроенность, казённое отношение руководителей к мнению и нуждам трудящихся, участившиеся задержки зарплаты».[217 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 158. Д. 654. Л. 57.]
В отчёте обкома КПСС отмечалось, что отдельные партийные комитеты и первичные парторганизации «проявляют инертность, неспособность овладеть ситуацией, противопоставить стихии организованность, дисциплину, чётко аргументированную принципиальную позицию.[218 - Там же.] Но мнения на этот счёт различались. Второй секретарь А. Ф. Колиниченко видел позитивные изменения, отмечая сокращение «разносов», «декларативности, общих призывов», больше конкретности, чуткости, внимания и доброты».[219 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 158. Д. 654. Л. 21.] Секретарь обкома В. А. Кротова выразила противоположную позицию: «С руководителей и секретарей парторганизаций мы мало спрашиваем за положение дел на местах, обкому и райкомам КПСС надо занять принципиальную позицию, а пока мы много обещаем, но мало делаем, а было бы лучше наоборот».[220 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 158. Д. 654. Л. 57.] Имел свою позицию председатель исполкома Оренбургского горсовета Г. П. Донковцев [Приложение 2], указывающий на «непоследовательность некоторых действий» и «конъюнктурное шараханье» парторганизаций», которые «перестали поспевать за динамикой общественных процессов, утратили контроль за ними, столкнулись с непредсказуемой ситуацией». «Хотим мы или не хотим, но есть оппоненты, высказывающие противоположные мнения, и нам нужно с ними работать – не старыми методами, а новыми, подкреплёнными делами», – констатировал Г. П. Донковцев.[221 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 158. Д. 654. Л. 45.] На заседании бюро ГК от 28 апреля 1989 г. было принято подробное Положение «О центре изучения и формирования общественного мнения г. Оренбурга при горкоме КПСС»,[222 - ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 68. Д. 28. Л. 2 – 44, 119 – 135.] что являлось своевременным и актуальным, рос спектр мнений.
На III пленуме обкома КПСС 1989 г. была отмечена неэффективность перевыполнения планов по всем отраслям ввиду отсутствия «экономических методов хозяйствования» и «продолжения роста доходов населения, не подкреплённого и неоправданного продукцией».[223 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 158. Д. 654. Л. 58.] На пленуме был утверждён также «Перспективный план работы Оренбургского обкома КПСС на 1989–1990 гг.», в идеале содействующий «утверждению ленинского стиля работы без формализма», к «коллективности, широкой гласности, критике и самокритике, борьбе с застойными явлениями в работе» и «совершенствованию кадровой работы».[224 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 158. Д. 654. Л. 82 – 89.] Данные позиции и методы озвучивались с 1985 г., следовательно, виден кризис в адаптации оренбургских парторганизаций к новым социально-политическим реалиями, их противоречивость и объективная невозможность осуществлять принятые решения.
Съезд народных депутатов, работавший в Государственном Кремлёвском Дворце Съездов в мае – июне 1989 г., широко освещался всеми средствами массовой информации, в т.ч. и региональными. [225 - Стенограмма заседаний Первого съезда народных депутатов СССР 1989 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.agitclub.ru/vybory/gor89/sten00.htm] Оренбургские депутаты, вернувшиеся из Москвы, дали обширное интервью газете «Комсомольское племя», их отношение к съезду было разным. А. Костенюк отметил его концепцию «на основе демократии – широкой по масштабности и глубокой по существу», т.к. «желающим высказаться предоставлялась трибуна»; депутатскому корпусу и дискуссиям он давал высокую оценку. В. Шаповаленко имел противоположную позицию: «Съезд был гласным, крикливым, но демократией там и не пахло. Всё было заранее предопределено, расписано». Н. Тутов подтвердил этот факт, рассказав, что депутатов, имевших отношение к армии, голосовавших «против», собирали в Министерстве Обороны и беседовали с ними о необходимости поддержки линии партии».[226 - Комсомольское племя. 26 июня 1989. .№ 47.] Таким образом, КПСС продолжала традиционное воздействие и на демократически избранных депутатов, но теперь они имели возможность высказать истинную ситуацию.
На V пленуме Оренбургского обкома КПСС от 25 июля 1989 г. были озвучены итоги обращения в Политбюро ЦК КПСС А. Н. Баландина с просьбой освобождения его от обязанностей первого секретаря обкома и выхода на пенсию в связи с «пониманием того, что задачи нового этапа перестройки требуют новых сил и огромной энергии».[227 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 158. Д. 654. Л. 187.] Избрание нового первого секретаря обкома КПСС было противоречивым. В списки для закрытого тайного голосования были внесены 4 кандидатуры – А. Г. Зелепухин, А. Ф. Колиниченко, А. Г. Костенюк и А. А. Чернышёв. А. Ф. Колиниченко взял самоотвод, из троих никто не лидировал. При повторном (третьем) голосовании из двух кандидатур – А. Г. Костенюка и А. А. Чернышёва – никто не набрал более 50 % голосов. Когда А. Н. Баландин внёс предложение «вновь вернуться к Колиниченко», единственный кандидат в итоге и был избран большинством голосов, что было утверждено «Протоколом №5». [228 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 158. Д. 654. Л. 193 – 227.]
В 1989 г. возросло внимание партийных комитетов к политической работе по консолидации всех «здоровых» сил через дискуссионные трибуны: с декабря 1989 г. в работе «прямой линии» в обкоме КПСС с 16:00 до 19:00 ч. ежедневно принимали участие заведующие отделами и их заместители.[229 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 793. Л. 6 – 9.] Каждый житель города и области теперь имел возможность высказать мнение по любой проблеме, задать интересующие вопросы.
Новый первый секретарь обкома КПСС А. Ф. Колиниченко видел важность использования в рамках современных реформаторских процессов теоретического наследия В. И. Ленина. Весомым поводом к активизации изучения и пропаганды трудов являлась предстоящая 120-я годовщина со дня его рождения. На заседании бюро обкома от 31 октября 1989 г. при подготовке плана мероприятий события А. Колиниченко высказался о «необходимости настойчиво пропагандировать коммунистическую убеждённость Ленина, его чистый нравственный облик». По его мнению, пропаганду следовало проводить «по-деловому, без ложного пафоса и трескотни», «не сводить к шаблонным фразам, стандартным приёмам, назойливому повторению общеизвестного, с трезвым учётом конкретной социально-политической обстановки», сложившейся в коллективе, районе, городе, области в целом.[230 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 158. Д. 657. Л. 101.] Следовательно, глава обкома был обладателем традиционных идеологических взглядов, что определило дальнейшее консервативное отношение Оренбургского обкома к проводимой ЦК КПСС идеологии.
В начале января 1990 г. в Оренбуржье завершилось выдвижение кандидатов в депутаты республиканского и местных Советов,[231 - Закон о выборах народных депутатов местных советов. М., 1989.] стартовала новая предвыборная кампания. Значительная часть сельских и районных округов была представлена одним кандидатом, преимущественно руководящим партработником, что делало избирательную кампанию для многих сельчан, по мнению ЦИОМ обкома КПСС, «безразличной и непривлекательной».[232 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 886. Л. 17 – 18.] По инерции и ввиду сосредоточенности на хозяйственных вопросах в селе в процессах выборов превалировали традиции.
У граждан возникали вопросы по числу выдвигаемых кандидатур: по мнению ЦИОМ обкома, при наличии стремления избирателей увеличить альтернативность выборов, выдвижение в округе по одному кандидату было нежелательным; по два – часто выбывали оба, много – было непривычным, т.к. не позволяло сделать осознанный выбор. Молодёжи и женщин также было выдвинуто мало.[233 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 886. Л. 1.] Ситуация говорит о новизне и непривычности для сознания граждан демократических методов в политическом процессе, адаптации к ним.
Секретарь Шарлыкского райкома КПСС А. Войнов подчеркнул, что «общая обстановка в районе в ходе подготовки и проведения выборов была спокойной, деятельность неформальных групп и других объединений не проявлялась.[234 - ЦДНИОО. Ф. 24. Оп. 50. Д. 55. Л.7.] Председатель исполкома Краснохолмского сельского совета Н. В. Карпов отмечал, что предвыборная кампания 1990 г. в областной Совет была демократической, а выдвижение кандидатов самим народом значительно повысило политическую активность, стал отступать синдром равнодушья. Тенденции, по его мнению, прослеживались «по активности избирателей на проходящих встречах с кандидатами, и на прошедшем сходе жителей с. Краснохолм».[235 - Оренбуржец. 1990. №2. Март.] Следовательно, вторые демократические выборы прошли в более психологически умеренной обстановке.
Кандидатов всех уровней по области было 25533 человека, среди которых 45,5 % являлись членами КПСС. Избранные 4 марта народными депутатами РСФСР кандидаты –В. Е. Чернов, И. Н. Кузнецов, В. А. Воронцов, М. Н. Зилист, А. Г. Зелепухин, В. И. Лихачёв, В. М. Гречанников, П. И. Гуркалов, А. М. Костин, А. Ю. Царёв, А. Х. Заверюха, А. А. Чернышов, А. И. Спицын – также были коммунистами.[236 - Южный Урал. 1990. 22 марта. №69.] В целом, статистика прошедших выборов была таковой: 82% избранных депутатов – члены КПСС, 10 % – партийные работники, 14 % – советские работники, 16,8 % – рабочие и рядовые работники сельского хозяйства, 2 % – комсомольцы. Всего 6,6 % от общего состава являлись женщинами. 71 % избранных депутатов ранее не входили в состав областного Совета,[237 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 794. Л. 22 – 24.] что располагает к новизне взглядов и решений к далее проводимому партией курсу. Показательно в плане отвержения обществом прежних методов руководства обкомом поражение на выборах первого секретаря обкома КПСС А. Ф. Колиниченко.
По итогам выборов в местные Советы прослеживается противоречие: не смотря на объективное падение авторитета КПСС в Оренбуржье, кандидаты-коммунисты продолжали у избирателей ассоциироваться с надёжностью, порядком и стабильностью, но необходимо было сменить состав советов региона. Следовательно, в сознании оренбуржцев (особенно, сельчан) проявлялись инерционные процессы, а также – субъективный фактор – избранные депутаты являлись людьми знакомыми и ранее завоевавшими авторитет. Им, вне зависимости от принадлежности к подвергавшейся дискредитации КПСС, нужно было дать возможность исправить ситуацию (принцип «коней на переправе не меняют»).
Важным политическим событием года стал XXVIII съезд КПСС 7–13 июля 1990 г.[238 - XXVIII съезд КПСС. 2 – 13 мюля 1990 г. Стенографический отчет в 7 томах. М. , 1991.] В соответствии с Уставом КПСС, он должен был состояться в 1991 г., но на февральском (1990 г.) Пленуме ЦК, оценив ситуацию и учитывая обращения парторганизаций (в том числе и оренбургских),[239 - ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 68. Д. 50. Л. 17 – 41.] было предложено провести его летом 1990 г.[240 - РГАНИ. Ф. 1. Оп. 9. Д. 177.; Оп. 10. Д. 255.]
VI (12 января 1990 г.) и VII (22 февраля 1990 г.) пленумы Оренбургского ГК КПСС были полностью посвящены предстоящему XXVIII съезду КПСС. Докладчики пленумов акцентировали внимание на «тупиковой ситуации» в работе партии и её «недееспособности», были настроены на скорейшее реформирование КПСС. Они также изначально поддерживали позицию о «целесообразности проведения съезда в первой половине 1990 г.» («за» – 101, «против» – 4, «воздержалось» – 3 человека) и о необходимости проведения выборов делегатов «прямым, закрытым (тайным) голосованием из альтернативных кандидатур по партийным округам», а «право выдвижения кандидатов в делегаты съезда предоставить первичным партийным организациям».[241 - ЦДНИОО. Ф. 267. Ф. 267. Оп. 68. Д. 50. Л.26]
Гаранькин Ю. Д., первый секретарь Оренбургского горкома партии:
– Наиболее острым вопросом дискуссии стал вопрос о порядке формирования руководящих партийных органов, выборов делегатов на XXVIII съезд КПСС. Коммунисты и беспартийные, все советские люди возлагают большие надежды на предстоящий съезд партии. Об этом свидетельствует и дискуссия, которая развернулась по ряду вопросов, связанных с его проведением. Необходимость дальнейшей, коренной демократизации внутрипартийной жизни вытекает из самой логики развития политических процессов как внутри партии, так и в обществе в целом. Безусловно, процесс демократизации партии будет нарастать и в дальнейшем.
– Сегодня всё решает время. Поэтому чем быстрее партийные органы пополнятся свежими силами, коммунистами, получившими мандат доверия от своих товарищей по партии, способными решать новые, сложные задачи, тем скорее мы сможем достичь реальных результатов перестройки в городской партийной организации. Решается судьба партии. Нельзя медлить.
Шкуринский С. В., секретарь парткома ПО «Оренбурггазпром»:
– В «Литературной газете»: выступил директор центра социологических исследований Академии общественных наук при ЦК КПСС профессор Тощенко и привёл данные: сегодня 35% коммунистов высказываются за пересмотр статьи Конституции «О руководящей роли КПСС», что говорит об их критическом настрое. По теории управления при 30% недовольных или критически настроенных лиц начинается дезорганизация системы, при 50% наступает кризис, развал. Конечно, эти закономерности нельзя механически переносить на партию как политическую организацию, но задуматься об этом стоит.
По мнению секретаря ГК КПСС М. М. Лобачёва, предложения о характере Устава и Программы партии должны были предлагаться «снизу»: «Не будет таких предложений снизу, грош цена решениям съезда – всё останется по-прежнему, а мы будем удивляться, почему падает авторитет партии, неконкретные решения не отвечают духу времени» [высказывания участников данных пленумов см. в Приложении 9].[242 - ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 68. Д. 50. Л. 1 – 36, 43.]
Со всей ответственностью был воспринят приближающийся XXVIII съезд КПСС и в райкомах: в апреле 1990 г. прошли районные партконференции, в рамках которых обсуждался проект платформы ЦК КПСС XXVIII съезду партии «К гуманному, демократическому социализму».[243 - XXVIII съезд Коммунистической партии Советского Союза, 2 – 13 июля 1990 г.: Стеногр. отчет. Т. 1. М., 1991. С. 75, 491.] Подчеркивая «духовное и политическое раскрепощение общества, наличие атмосферы свободы, демократизации, гласности», практически везде главы районов констатировали «сложнейшую внутриполитическую и экономическую обстановку», «сложный и трудный момент, для характеристики которого не годится ни один из привычных приёмов и стереотипов».[244 - ЦДНИОО. Ф. 13. Оп. 45. Д. 54. Л.5.; Ф.1165. Оп. 49. Д. 15. Л.19.; Ф. 1547. Оп. 35. Д. 58. Л. 43.; Ф. 24. Оп. 50. Д. 40. Л. 5.; Ф. 12. Оп. 48. Д. 15. Л.5.] Первый секретарь Илекского райкома КПСС П. Т. Казанкин, например, отметил, что «коренной вопрос обновления партии – необходимость очиститься от всего, что её связывало с авторитарно-бюрократической системой, наложившей отпечаток не только на методы работы, на взаимоотношения внутри партии, но и на идеологию, образ мышления, на сами представления о социализме».[245 - ЦДНИОО. Ф. 13. Оп. 45. Д. 54. Л.5.] Процесс разрушения партии изнутри, привычной её структуры, действительно, начался.
Из 4683 делегатов XXVIII съезда 37 человек представляли Оренбургскую область [Приложение 10].[246 - РГАНИ. Ф. 1. Оп. 10. Д. 257. Л. 58 – 59.] Уровень делегатов был высок: 36 имели высшее образование (97,2 %; 84,9 % – общий показатель делегатов); 23 были награждены орденами и медалями (62,2 %; 64,9 % соответственно); рабочими и колхозниками ранее являлись 16 делегатов (43,2 %; 58,7 % соответственно).[247 - РГАНИ. Ф. 1. Оп. 10. Д. 255. Л. 3.; Д. 286. Л. 48 – 51, 60 – 96.] Что примечательно, из 37 оренбургских делегатов ранее избирались на съезды и всесоюзные конференции КПСС только 2 чел.,[248 - РГАНИ. Ф. 1. Оп. 10. Д. 286. Л. 48 – 51.] что предрасполагает к новизне взглядов и решений. В секциях шли дискуссии по вопросам национальной политики, организационно-политического обновления партии, совершенствования её идеологической работы, взаимодействия КПСС с Советами, общественными организациями и движениями.
На региональном уровне в связи с усугубляющейся социально-политической обстановкой секретарями партийных организаций на XXVIII съезд КПСС возлагалось много «последних» надежд [Приложение 11]. Вопросы о реформировании партии и её действенности в принятии решений ставились уже конкретно, изменения должны были иметь неотложный характер.
Лобачёв М. М., член горкома, секретарь горкома КПСС:
– Товарищи! Создалась необычная ситуация. Партия всегда брала своей сплочённостью и организованностью. Сейчас все общественные, политические формирования взяли это на вооружение, все объединяются, консолидируются, а мы пытаемся каждый вести свою линию. Ситуация надвигается взрывоопасная, все это чувствуют, но всё равно действуют по-старинке, надеемся, что съезд партии найдёт ответы на все возникшие вопросы, а нам и думать не надо. Люди понимают, что ситуация сложная (особенно ответственные партийцы), но давняя привычка голосовать подавляющим большинством берёт своё. Теперь модны другие тенденции, отрицающего характера, но все голосуют за них, в чём и заключается парадокс. Я считаю, что именно сегодня должны быть предложения снизу, каким должен быть Устав партии, какой должна быть программа. Не будет таких предложений снизу, грош цена решениям съезда. Всё останется по-прежнему, а мы будем удивляться, почему падает авторитет партии, неконкретны решения и не отвечают духу времени.
Морозов И. В., член горкома, зав. кафедрой Сельхозинститута:
– Я думаю, что в результате всей предвыборной кампании и съезда родится новая партия, или мы должны будем уйти на задворки истории. Двоемыслия быть не может. Прежде всего, надо решить вопрос о сути демократии. Для некоторых она кость в горле. Нельзя навязывать свои мысли другому.
Федотов С. Н., член горкома партии, директор Центра «Контингент»:
– Если мы хотим нашу партию сохранить в условиях многопартийности, надо создать такие условия, чтобы наша партия имела силу. Я предлагаю по опыту комсомола создать хозрасчётные подразделения, создавать финансовую базу и решать насущные проблемы коммунистов, строить им дома. Тогда они увидят реальную силу партии. От того, что упраздним райком, горком – авторитет партии не поднимем, нужны конкретные дела.
Шкуринский С. В., член горкома партии, секретарь парткома ГП «Оренбурггазпром»:
– Сегодня, к сожалению, всё чаще звучат ностальгические нотки о старом, добром времени, когда партия была гегемоном в обществе, и даже призывы вернуться к тем временам. Неужели до сих пор мы не понимаем, что время для партии ушло безвозвратно. Той командной партии не стало. Задача в том, как действовать в сегодняшних условиях, как политическими методами добиваться превосходства, авторитета партии, который, как мы видим, в народе упал.
В отличие от предыдущих партийных съездов, в документах форума отсутствовали приветствия от зарубежных левоцентристских партий. Хотя большинство коммунистов Урала уже не принимали консервативных позиций и ждали от него радикальных реформ в партии,[249 - По заявлению пермского делегата, доцента В.Н. Железняка, РГАНИ. Ф. 1. Оп. 10. Д. 110. Л. 47, 55.] при анализе списков сторонников «Демократической платформы в КПСС» нами не было обнаружено оренбургских делегатов.[250 - РГАНИ. Ф. 1. Оп. 10. Д. 255. Л. 25 – 38.]
В 1990 г., в связи с изменением законодательства, КПСС находилась в новой ситуации: её представители должны были отстаивать свои позиции наравне с лидерами других общественно-политических движений. Руководство обкома КПСС предоставляло авторитетным коммунистам и сторонникам «перестройки», которым доверяли люди (руководителям разных уровней, ветеранам войны, представителям интеллигенции), любой возможности выступать перед аудиториями, в печати, по телевидению и радио. «Пора более решительно давать отпор политическим демагогам, экстремистам, интриганам», – было подчёркнуто в плане Идеологического отдела на 1990 г, но данная декларация явно диссонировала со сделанной ставкой на «сотрудничество и партнёрство со всеми общественно-политическими организациями».[251 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 883. Л. 23 – 29, 34 – 37.] Более того, обострение социально-экономической ситуации сводило усилия обкома до минимума: агитация за «перестройку» при отсутствии стабилизации обстановки не являлась эффективной.
В сельской местности ситуация весной 1990 г. имела иной характер: главы райкомов, имея веру в благополучный исход «перестройки», до сих пор отмечали причины «недостаточно энергичного» её осуществления в локальных промахах. Показательны в этом плане заявления главы Илекского РК П. Т. Казанкина: «На бюро иногда рассматриваются незапланированные вопросы без глубокого анализа дел на местах», «не на должном уровне ведётся контроль за исполнением принимаемых решений», «не во всех партийных организациях ведётся учёт критических замечаний, не всегда по ним принимаются меры»; «не все пленумы райкома партии проходят активно, заинтересованно, с позиций критики и самокритики», «некоторые члены райкомов не проявляют на их заседаниях должной активности». П. Т. Казанкин был убеждён, «у перестройки нет разумной альтернативы», отмечая, что это «хотя и трудный, драматический, но верный путь к тому, чтобы обеспечить людям достойную жизнь, реализовать потенциал нашей великой страны».[252 - ЦДНИОО. Ф. 13. Оп. 45. Д. 54. Л. 5 – 6.]
Секретарь Бугурусланского ГК А. В. Григорьев, обозначая причины кризиса во «вседозволенности от высшего эшелона власти до самого нижнего, в абсолютной безответственности, которой уже 40 лет», прогнозировал «позитивные результаты перестройки» с решением данной проблемы. «Спасибо глубинкам, что народ не поддался на провокаторские действия организованных кем-то сил!», – подчёркивал он.[253 - ЦДНИОО. Ф. 1547. Оп. 35. Д. 58. Л. 43 – 44.; Ф. 24. Оп. 50. Д. 40. Л. 5 – 11.] Таким образом, понимание сути сложившейся социально-политической ситуации являлось локальным, неполным, ограниченным рамками отдельных райкомов и действиями отдельных людей, глубинные причинно-следственные связи не прослеживались.
Социологическое исследование, проведённое при участии горкома КПСС г. Орска в сентябре 1990 г. показало, что в 50 % парторганизаций практически не ведётся работа по пропаганде и разъяснению материалов XXVIII съезда КПСС, а там, где ведётся, носит «поверхностный характер». 2/3 секретарей парторганизаций города «не определились в своих взаимоотношениях с другими общественными организациями, партиями, движениями». При наличии полученной самостоятельности, секретари первичных парторганизаций в своём большинстве не могли умело ею пользоваться: не знали, как в новых условиях организовать внутрипартийную работу и приобщить коммунистов к активной деятельности. Влияние аппарата Орского горкома КПСС, его выборного органа на работу первичных парторганизаций расценивалось как «незначительное».[254 - ЦДНИОО. Ф. 748. Оп. 59. Д. 28. Л. 1 – 4.] На этом примере мы видим некоторое замешательство в деятельности партийных организаций, сложности во взаимодействии, следствием чего становится неэффективность пропагандистских мероприятий. Самостоятельность секретарей нижестоящих партийных организаций привела к нарушению привычной схемы взаимодействия в КПСС – прежние «командные» механизмы становились анахроничными, а новых создано не было.
В 1990 г. актуализируется вопрос о численном сокращении руководящих органов КПСС, о структурных изменениях в парторганизациях области, передачи власти Советам.[255 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 731. Л. 4 – 6.]
Вопрос о структурных изменениях в Оренбургской городской партийной организации был поднят в рамках VII пленума ГК от 22 февраля 1990 г. и VIII пленума от 28 марта 1990 г.: из 302 коммунистов 274 высказались за упразднение райкомов партии, что составляет 90,7%. Дискуссии были активными [Приложение 11], но постановление пленума содержало противоречивые формулировки для голосования, которые не позволили принять окончательное решение. За «нецелесообразность упразднения районных комитетов КПСС» проголосовало 118 членов ГК, «против» – 30. За «сохранение в структуре городской партийной организации городского комитета партии» проголосовало 127 членов ГК, «против» – 6, «воздержалось» – 15.[256 - ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 68. Д. 50. Л. 78.] Следовательно, в ГК поддержали и сохранение и райкомов, и горкома КПСС. На наш взгляд, определяющим в решении данного вопроса был личный момент: представители партии закономерно не могли лишить сами себя привычного образа жизни и рабочего места, откладывая логический итог.
Партийная реформа в ухудшающейся обстановке проходит весьма болезненно. «В это трудное переломное время под флагом разделения обязанностей, передачи власти Советам упускаются из виду бесхозяйственность, неприкрытое, порой даже циничное, игнорирование действующих законов, постановлений съездов народных депутатов, Верховного Совета СССР, решений партии и правительства», – подчеркивал глава Оренбургского обкома А. Ф. Колиниченко, – а виновные в этом руководители-коммунисты не несут никакой ответственности; бездействуют и первичные организации, занимая выжидательную позицию».[257 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 731. Л. 24 – 29.] Аналогично по своей сути и резкое заявление на XXXV Оренбургской городской партконференции от 18–19 апреля 1990 г. кандидата в члены ГК КПСС, председателя колхоза им. Чапаева (с. Краснохолм) И. В. Солодовникова:
– «Товарищи коммунисты, мы пятый год ведём только одни разговоры с высоких трибун. Когда же мы начнём работать? Мы ждали XXVII съезд партии, мы ждали XIX партконференцию, мы ждали перестройку в целом всей нашей партийной системы, и сегодня мы продолжаем вести такие разговоры. С каждым партийным форумом у нас падает авторитет нашей партии, и всё дело в том, что нет спроса с каждого коммуниста за порученное дело, потому что принимаемые решения мы не контролируем».[258 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 737. Л. 64 – 65.]
Члены КПСС многократно отмечают невозможность контролировать исполнение решений в нижестоящих парторганизациях, что явилось негативным следствием проводимой реформы.
На региональном уровне серьёзно проявляется отсутствие чётких инициатив ЦК КПСС в плане идеологической работы, и местные партийные организации вынуждены действовать самостоятельно. В апреле 1990 г. А. Ф. Колиниченко констатирует неготовность работать в условиях многопартийности.[259 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 737. Л. 61.] 10–12 мая 1990 г. прошёл трёхдневный семинар идеологического актива обкома КПСС по проблемам идейно-политической работы в современных условиях, включающий «имитационную игру» под названием «Участие парторганизаций в предвыборной кампании»,[260 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 883. Л. 44 – 47.] в которой создавались ситуации по созданию имиджа кандидата, апробировались методы предвыборной борьбы и подготовки наглядной агитации, взаимодействия с прессой. Это было актуально и необходимо.
В рамках XXXV Оренбургской городской партконференции от 18–19 апреля 1990 г. решением бюро ГК КПСС был организован Центр по изучению общественного мнения. Первый секретарь Ю. Д. Гаранькин справедливо отметил, что «этой работе ещё не достаёт основательности, комплексности, системности, научности».[261 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 737. Л. 8, 13] Один из первых социологических опросов, проведённых весной 1990 г. среди коммунистов, репрезентативно доказывал многократно отмечаемые тенденции: 69 % респондентов подчеркнули, что «авторитет первичных парторганизаций снизился», 48 % – что «горком КПСС не влияет на ход перестройки», а 51,5 % тот же вывод сделали и о райкомах КПСС. На конференции также было подчёркнуто, что численность городской партийной организации впервые за многие годы снизилась на 1588 человек, 1059 из которых – члены и кандидаты в члены КПСС, добровольно сдавшие свои партбилеты, и эта тенденция продолжает нарастать, что свойственно для областной и общероссийской ситуации.[262 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 737. Л. 8, 13, 16. Общероссийская ситуация в приложении 4.] Ю. Д. Гаранькин критически высказался о проекте Платформы КПСС, в котором «нет чёткой оценки сегодняшней ситуации в партии и стране, замалчивается, что сложившаяся ситуация может привести к развалу государства».[263 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 737. Л. 20.] Таким образом, в регионе присутствовало понимание критичности ситуации, но проводимые реформы ограничивали действенность партийных механизмов.
27 апреля – 25 мая прошла XXVII Оренбургская областная партийная конференция, на которой А. Ф. Колиниченко снова признал наличие многопланового кризиса в стране и области, отметил негативный настрой населения, факт складывания оппозиции, «не обременённой грузом ответственности и ошибок», которой «легче завоевать популярность».[264 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 730. Л. 11.] Были озвучены статистические данные по выходу из КПСС: в 1988 г. добровольно сдали партбилеты 164 человека, в 1989 г. – 1474 человека (в 9 раз больше), а за 6 мес. 1990 г. численность областной парторганизации снизилась на 4308 человек. Более того, за 6 месяцев 1991 г. из областной партийной организации выбыло и было исключено ещё 11 918 чел. – уже иные масштабы.[265 - Данные о выходе из КПСС по ключевым моментам весьма схожи с общероссийской ситуацией, где пик добровольной сдачи партбилетов приходится на 1990 – 1991 гг. (См. Приложение 3)] В итоге за период с 1988 г. по первое полугодие 1991 г. из рядов КПСС в Оренбургской области вышло 23% её членов.[266 - КПСС и власть: департизация органов государственной власти и управления на Южном Урале / В.Н. Иванов. Челябинск, 1999. С. 88.] Одновременно с массовым выходом из партии, по сведениям обкома, резко сократился и приём в её ряды (за счёт рабочих и колхозников): в 1990 г. по области было принято 427 чел., за 6 месяцев 1991 г. – 112 человек. [267 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 160. Д. 724. Л. 10 – 12.] Главой обкома А. Ф. Колиниченко были сделаны предположения о социальных характеристиках «выходцев»: «пенсионеры, карьеристы; люди, не понявшие новые направления политики и люди, потерявшие веру в неё из-за злоупотребления служебным положением отдельных лиц». «Те, кто в столь тяжёлый период для партии вступили в неё», – это «люди активной жизненной позиции, сторонники социалистического выбора», – отметил он.[268 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 730. Л. 12 – 17.] Во избежание дальнейшего развития критической ситуации, А. Колиниченко подчеркнул необходимость «политического просвещения и патриотического воспитания», «изучения с новых позиций марксизма-ленинизма», «создания в комитетах партии дискуссионных клубов». Однако реальные мотивы выхода из КПСС были иными, имевшими более глубокую социально-психологическую сущность – партийцы были разочарованы деструктивными для страны действиями КПСС в целом.
Докладчики XXVII конференции оппонировали главе обкома: член обкома КПСС, ткачиха А. П. Плотникова указала на необходимость улучшения благосостояния людей для большей эффективности идеологической работы; редактор Беляевской районной газеты «Вестник труда» Б. А. Тесля отметил неэффективность повторения слов «перестройка», «гласность», «плюрализм» и отсутствия действий: «Сколько бы мы не твердили «сахар, сахар» – слаще от этого во рту не станет!». Председатель облисполкома А. Г. Костенюк констатировал осложнение ситуации в области ввиду «нечётко выработанной полной стратегии и тактики действий». «Из практики пока получается так, что мы все за перестройку, а мыслим и действуем по-разному, – отметил он. – Одни выступают за возвращение частной собственности, роспуск колхозов и совхозов, другие призывают отказаться от идеологии. Так какие же ценности людям необходимо отстаивать, за что бороться, каковы средства этой борьбы?». Что примечательно, при принятии постановления конференции, констатирующего отсутствие «кардинальных изменений в стиле, формах и методах работы партийных комитетов», «перестройки деятельности пропагандистов и агитаторов», «медленное осваивание обкомом современных методов работы» и «наличие идейной разобщённости среди коммунистов», её делегаты традиционно дали «удовлетворительную» оценку работе обкома партии за отчётный период: 594 голоса «за», 4 – «против» и 2 «воздержавшихся».[269 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 730. Л. 95.] При этом в обкоме было понимание реальной проблемной ситуации: в «Постановлении» было обозначено о «незавершённости переориентации экономики на решение социальных вопросов», о настроении во многих партийных организациях под предлогом разделения хозяйственных и партийных функций «уйти от влияния на вопросы повышения производительности труда, качества выпускаемой продукции, укрепления дисциплины».[270 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 730. Л. 96 – 105.] В резолюции выдвигались требования «выразить идейно-теоретические основы КПСС, определить её стратегические и ближайшие тактические цели, теоретически обосновать концепцию гуманного, демократического социализма», а также «высказаться в защиту В. И. Ленина и Октябрьской Революции, подвергнутых нападкам и дискредитации»; «заменить формулировку «планово-рыночной экономики» на «регулируемую экономику».[271 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 725. Л. 11 – 17, 41, 69, 71, 187.] Очевидно объективное отсутствие понимания общей стратегии действий, что вызывало дистанцирование от решения актуальных вопросов ввиду невозможности кардинально изменить ситуацию посредством лишь партийных рычагов в отдельно взятом регионе.
Схожи по характеру действия заведующего Идеологическим отделом обкома КПСС В. Мешкова, который 11 ноября 1990 г. направил ГК и РК КПСС рекомендации общественно-политического центра (ОПЦ) обкома КПСС «Защищать Ленина, продолжать дело Октября» – в критический для политики партии период представители региональной партийной элиты считали указанный аспект весьма важным для стабилизации. Критика КПСС и классиков марксизма-ленинизма обществом трактовались обкомом как «стремление многих новых политических формирований буржуазного толка посеять недоверие к социалистической идее, во что бы то ни стало убрать с политической арены КПСС, повернуть вспять историю, реставрировать капиталистические порядки»,[272 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 794. Л. 79 – 80.] что, в принципе, было объяснимо.
Активная поддержка обкома в плане восстановления «честного имени» В. И. Ленина наблюдалась и в райкомах. По заявлению 2-го секретаря Соль-Илецкого РК КПСС И. Секретевой «связывать все невзгоды с его именем» неправомерно, а сегодня «как никогда актуально» изучать его труды, взять на вооружение ленинскую методологию анализа общественного развития, обратив внимание на его гуманистические и общечеловеческие ценности».[273 - См., например: Илецкая защита. 1991. №. 44. 9 апр.; Под знаменем Ленина. 1991. № 62. 24 апр. 1991.] И всё же, по данным ЦИОМ обкома КПСС, развернувшаяся в областной партийной периодике контрпропаганда КПСС не являлась действенной.[274 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 883. Л. 29; Д. 725.Л .10 – 17; Д. 886.]
Одним из проявлений кризиса КПСС стало и появление дезинформации в региональных СМИ о её якобы «сказочных богатствах»: представителями оппозиции общественности активно внушалась мысль о «награбленном» у населения имуществе, которое следовало «национализировать, реквизировать, приватизировать».[275 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 1046. Л. 4 – 7.] В действительности на 1 января 1990 г. в оперативном управлении местных партийных органов имелись основные фонды стоимостью 2,3 млрд. руб., а всего в собственности было 4,9 млрд. руб., что, по данным обкома, составляло «0,001 % от всего национального богатства», причём, сюда входили здания, издательства, санатории и т.д.
В условиях усиления дискредитации КПСС и социалистического выбора на волне противостояния центральному руководству КПСС, возникла идея о создании отдельной Коммунистической партии РСФСР по аналогии с партиями союзных республик. 21–22 апреля 1990 г. в Ленинграде состоялся Инициативный съезд российских коммунистов, на котором обсуждался вопрос о воссоздании Российской компартии (РКП) на платформе КПСС.[276 - Жарков В., Колесников А. Дни надежды // The new times. 07.06.10. №19. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //nardep-rsfsr.90-95.ru/newtimes-07062010.] По заверению А. Колиниченко весной 1990 г., «ни одна первичная районная или городская партийная организация Оренбургской области не принимала решения делегировать на данный съезд своих представителей». [277 - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 159. Д. 730. Л. 89. Всего на съезде было 615 представителей от 37 областей и 7 автономных республик, но Мандатная комиссия съезда признала полномочия 15 человек, избранных партийными организациями по округам, а остальные 600 участвовали как «представители партийных организаций».] Хотя, глава обкома не исключал возможность присутствия на съезде оренбургских коммунистов «по своей инициативе».
19–23 июня 1990 г. была созвана Российская партийная конференция, которая позиционировала себя как Учредительный съезд Компартии РСФСР (в составе КПСС). В конференции-съезде приняли участие 2 768 делегатов, избранных на XXVIII съезде КПСС от партийных организаций РСФСР.[278 - Коммунистическая партия Российской Советской Федеративной Социалистической Республики // Википедия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/] От делегации Оренбургской области в состав Совета представителей делегаций Российской партийной конференции были избраны 4 человека: А. Ф. Колиниченко, В. Я. Горьков, В. Д. Колесников, Н. П. Кочемаев.[279 - РГАНИ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 39. Л. 16.] При рассмотрении информационно-аналитических данных о просьбах и обращениях, предложениях и замечаниях, поступивших в Секретариат конференции, было выявлено, что за период работы съезда от наших делегатов поступили две просьбы о предоставлении слова, одна из которых была удовлетворена.[280 - РГАНИ. Ф. 91. Оп. 1. Д. 56. Л. 5 – 57.] Отмечаем участие и активность представителей КПСС от Оренбуржья во всероссийских процессах начавшейся реорганизации КПСС.
В Ленинском райкоме КПСС г. Оренбурга был проведён соцопрос по поводу создания КП РСФСР. Из 1350 коммунистов 74 % одобрили её создание; 20,2 % – не одобрили. Ответы на вопрос о членстве в КПСС распределились так: 29 % – однозначно не выйдут из неё, 39,1 % – останутся, если после XXVIII съезда начнётся «настоящее обновление партии»; 12 % – выйдут из КПСС безусловно, а 2,3 % – войдут в другие партии.[281 - ЦДНИОО. Ф. 371. Оп. 97. Д. 886. Л. 119.] Отмечаем, что данные весьма разноречивы, и авторитет партии подвергается сомнению.
В 1991 г. в Оренбургской области происходит активизация социал-демократических партий, которые вступают в резкую конфронтацию с КПСС: все политические акции, проводимые ими, носили ярко выраженный антикоммунистический характер. Основные идеологические дискуссии происходили в Оренбургском городском и областном советах Народных депутатов.[282 - Рагузин В.Н., Прусс А.П. Формирование гражданского общества в Оренбуржье. Оренбург, 1998. С. 9 – 11.] Возмущения обоснованы ухудшающейся социальной ситуацией.
На заседании бюро ГК КПСС областного центра 1 марта 1991 г. оценило ситуацию по обеспечению города молоком и мясом, и, сделав вывод, что «она становится кризисной, приобретает политическую окраску и требует от коммунистов практических действий по снабжению города продукцией сельскохозяйственного производства», потребовало «сформировать группы из коммунистов для выезда в сельские районы для решения проблемы (создания ресурсного банка и организации дополнительной заготовки сельхозпродукции)».[283 - ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 68. Д. 74. Л. 29.] На IV пленуме ГК КПСС от 13 апреля 1991 г. первый секретарь Ю. Д. Гаранькин подчеркнул «глубину политического и экономического кризиса, в котором оказалась страна на нынешнем этапе развития нашего общества». Он определил главной целью работы ГК «стабилизацию экономической и политической обстановки в интересах людей», что зависело, на его взгляд, «от активности и партийной дисциплины на местах», подчеркнув необходимость «чётких, слаженных действий всех коммунистов» и высокой степени их готовности «к нелёгкой каждодневной политической работе». Стоит отметить, что в связи с «нарастанием тревоги за положение дел в городской партийной организации» стали постепенно снижаться экономические показатели (промышленность города недопоставила продукцию по договорам на сумму 10,2 млн. руб., выработано товарной продукции на 99, 1 % к соответствующему уровню прошлого года; 27,9 % коллективов снизили объемы производства, а строители ввели жилья к уровню прошлого года 48,6 %, объём подрядных работ составил 85,6 %).[284 - Протокол VI пленума ГК см.: ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 68. Д. 73. Л.2 – 6.]
Деятельность депутатов от КПСС в городском Совете также становилась неэффективной: явка на заседания и сессии депутатской группы составляла не более 35–45 человек (из 75, что негативно отражалось на результатах голосования), слабо использовалось право законодательной инициативы, не всегда убедительно защищались внесённые предложения. В условиях противодействия со стороны приверженцев «Демократической России», объединённых в инициативную депутатскую группу, по словам аналитиков ГК, это являлось «недопустимой роскошью».[285 - ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 68. Д. 73. Л.9 – 13.] Весной 1991 г., ввиду отмечаемых «наличия надвигающейся проблемы голода», «потока негатива в СМИ», неэффективности идеологической работы и противостояния с «демократами», в ГК было принято заявление бюро Оренбургского обкома партии «О социально-политической ситуации в области и неотложных задачах по преодолению кризиса» [примеры высказываний членов ГК 1991 г. см. в Приложении 10]. Сам факт руководства партийными организациями зачастую расценивался как «проявление мужества и ответственности» (по высказыванию М. П. Обещенко, «многие хозяйственные руководители, их заместители уже давно поняли, что «от партии для них лично уже мало что можно приобрести», и потому относятся к членству в горкоме КПСС «формально»).[286 - Фразы из весенних протоколов заседаний ГК (1991 г.) ЦДНИОО. Ф. 267. Оп. 68. Д. 73. Л.6 – 10.]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69237403&lfrom=174836202) на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
notes
Примечания
1
Гельман В.Я., Рыженков, С.И. Политическая регионалистика России: история и современное развитие. М., 1999. С. 26.
2
См., например: Сафонов Д.А. Очерки историографии оренбургской истории. Оренбург, 2005. С. 6.; Он же. Между империей и республикой Советов: местные власти на Южном Урале в 1917 – 1918 гг. Оренбург, 2008. С. 4.; Он же. Культурное развитие Оренбургского края в ХVIII – ХIХ вв.: общее и особенное // Оренбургский край: история, традиции, культура: сб. конф. Оренбург, 2009. С. 31.
3
Барсенков А.С. Введение в современную российскую историю 1985 – 1991 гг. М., 2002. С. 12.
4
Более подробно: Сарычева А.В. Некоторые особенности общероссийской историографии периода перестройки. Основные концепции о причинах краха системы // Наука и образование: исследования молодых учёных: сб. статей аспирантов ОГПУ / под общ. ред. В.А. Лабузова. Оренбург, 2009. С. 59 .
5
Более подробно см.: Сивожелезова А.В. Основные тенденции в публицистике эпохи «перестройки» // Современные факторы повышения качества профессионального образования: материалы XLVI студенческой науч. – практ. конф.: Исторические науки. Оренбург, 2007. С. 163 – 168.
6
Перестройка. Публицистический ежегодник Союза писателей СССР. Вып. 1. М., 1990.; В своём отечестве пророки? Публицистика перестройки: лучшие авторы 1988. / сост. Н. Стрельцова. М., 1989. Бурлацкий Ф. Новое мышление. Диалоги и суждения о технологической революции и наших реформах. М., 1989. 439 с.
7
Перестройка: гласность, демократия, социализм в человеческом измерении. / Под. ред. Вишневского А.Г. М., 1989. С. 5.; Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 127.; Клямкин И. Почему трудно говорить правду? // Перестройка. Вып. I. Публицистический ежегодник союза писателей. М., 1990. С. 336 – 398.
8